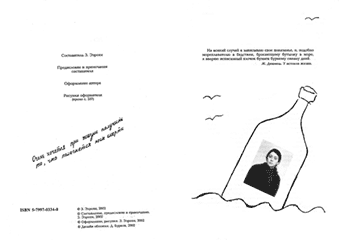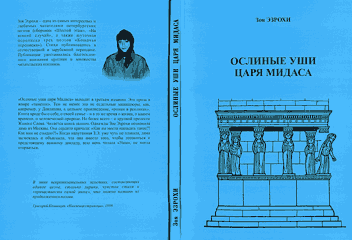МОЯ МАМА И ЕЕ «РОБКОЕ ПИСАТЕЛЬСТВО»
I
Первое, что приходит мне в голову, чему я не перестаю удивляться, - как она все успевала?
Тяжелый быт: еще не было парового отопления, газовых плит, горячей воды, а были шестидневная рабочая неделя, огромные очереди в баню (почему-то очень запомнились), большая классическая коммуналка, многолюдная семья со сложными детьми, больными стариками, духовно далеким мужем. Хотя и держали в пору моего детства домработницу (тогда это было распространено), на которую уходила мамина зарплата, я помню, что именно мама полностью ухаживала за стариками, мыла посуду, принося по коридорам из далекой кухни тазы с водой, стирала, шила, занималась детьми... Физическая слабость, тяжелые мигрени (сразу после первых родов она сказала: «Мигрень хуже»). Теснота (до старости не имела не то что своего угла - своего стола), материальные трудности...
И всегда, несмотря ни на что, - постоянная напряженная духовная жизнь. За книжкой готова была идти пешком на другой конец города; в молодости ходила на все театральные премьеры (брала билеты на дешевые стоячие места, носила с собой чемоданчик, чтобы сидеть); замечательная коллекция репродукций...
Она была одной из немногих, которые В ТЕ ВРЕМЕНА знали и восхищались запретными Цветаевой, Мандельштамом, Пастернаком, Есениным...
Будучи младшим научным сотрудником, она по собственной инициативе разработала научную тему. Ее труды опубликованы, есть даже монографии.
Помню, как уже в моей юности моя подружка пыталась приобщить сослуживцев к своему восхищению искусством Гогена, - ее заклевали! А моя мама САМА дошла до интереса к беспредметной живописи, оценила и полюбила сюрреалистов (как она радовалась, набредя на Кирико! Она тогда переводила его фамилию неправильно - Чирико, это был наглухо неизвестный у нас художник). Сама изучила иностранные языки, чтобы переводить материалы, связанные с коллекционированием.
Ее записи: конспекты по мифологии, по истории, по живописи, по Ленинграду (она потратила отпуск на изучение города. Тогда книги по истории и архитектуре города были большой редкостью; мифология же была полузапретной темой), цитаты из прочитанных книг, любимые стихи, дневники (их она распорядилась уничтожить после смерти)... У меня - более сорока тетрадей, исписанных ее аккуратным почерком (машинистки на работе любили ее за почерк, а она говорила: «У меня почерк бездарности»). В войну она в эвакуацию возила свои тетрадки (оторвав картонные обложки - для уменьшения веса).
Что меня совсем уже лишает надежды понять, как это можно было успеть, - так это вышивки крестом. Замечательно красивые, целые картины.
Она была осколком той ценной породы, той НАСТОЯЩЕЙ культуры, представители которой уходят невосполнимо, как последние могикане.
Я при ней - как кустик рядом с деревом. Чего-то чуть-чуть нахваталась. А мои дети - травка рядом со мной-кустиком. Как-то, когда она уже была лежачей больной, одолеваемой страшным, разрушающим даже такую личность, склерозом, она вдруг стала мне чуть ли не с рыданиями пенять, что мои маленькие дети, оказывается, не знают литературной классики! «Как ты могла такое допустить!!!»
Конечно, я виновата (хотя оправданий много). Нет, у меня не самые плохие выросли дети. Неглупые, что-то вроде даже и читают. Но... Свет сошелся на компьютере.
Я уговариваю себя, что это другая, новая культура, просто я, мамонт, ее не понимаю.
Она умела довольствоваться малым (бесценный дар, редкое благоволение богов!). Она, ни разу даже за границей не побывавшая, взяла от жизни больше, чем иные богачи и знаменитости. Сколько она получала - от открытки, от безделушки, от картины, от книги, от живого пейзажа, от лакомства, от общения с людьми и животными! Она была по-настоящему богата.
Но (оборотная сторона такого богатства) много получала и от бед - преувеличивала, паниковала, остро переживала любую опасность, несправедливость и жестокость.
Она часто говорила, что всегда была некрасивой. Так, наверное, и было: худая (а тогда, в ее молодости, это было немодно), веснушчатая, крупные черты лица. И она даже не могла сказать о себе популярными словами: «Красивой я не была, но всегда была чертовски мила!» Нет, не этим она «брала».
Ее сотрудница как-то с завистливым непониманием сказала ей:
- Вокруг тебя такие интересные мужики крутятся!
Но это не были «мужики». Это не были «интрижки». Были нежные искренние отношения и глубокие захватывающие чувства.
Ну и конечно, она была кокетливее, чем сама о себе думала.
Бедный мой папа!
Она умерла во Флориде - коренная петербурженка, до мозга костей петербурженка! Так ужасно получилось. В конце 1993 года она была вынуждена уехать в Америку. Там, сломленная, лишенная всего близкого и милого, она после тяжелых болезней умерла в фешенебельном доме для престарелых в сентябре 1997 года в возрасте восьмидесяти семи лет.
II
Она назвала меня «своим Зоилом» (Преамбула к «Дефициту»).
Если бы ей было отпущено время, чтобы совершенствоваться! Она лежала беспомощная, в чуждом и даже враждебном окружении, почти отрезанная от так необходимого ей общения с людьми, писала свои чудесные «очерки» и ждала нечастых посетителей. Особенно - меня. А я приезжала замотанная, зачуханная, задавленная своими тяготами (одна с двумя детьми, больная). Прочитывала наспех и рвалась к своим заботам... И почему судьба не послала ей более достойного критика?!
Особо - о «Тетради без названия». Эта тетрадь - самая мемуарная и, по-моему, лучшая - явилась для меня сюрпризом. Я забыла (!), что мама писала уже в семидесятых годах. Вот уж - mea culpa... Видимо, причина в том, что в те времена живому, необычному, тем более «альбомному» (существовал такой ярлык) слову настолько затруднена была дорога к публикации, что оно воспринималось - и читателями, если они были, и самим автором - как ненастоящее, не всерьез, в лучшем случае для домашнего чтения. «Какой же он писатель, если не печатается?» (фильм «Зеркало»).
Предвосхищая нарекания типа: «Это только для домашнего чтения», «Посторонним неинтересно» и т. п., хочу напомнить о «Записках у изголовья» Сей Сенагон, о «Письмах к госпоже Каландрини» Аиссе, о дневниках Марии Башкирцевой, о том, что точно такие нарекания и прогнозы высказывались по поводу дневников
К. Чуковского...
В чем я вижу ее литературное мастерство? Она подбирает оброненное кем-то слово, мимо которого другой прошел бы не оглянувшись, окружает его бесхитростным, но искусным рассказом и, глядишь, слово заиграло и засверкало!
Конечно же - юмор. Не просто «смешно», а - художественно. Даже описание трагического положения старого, мучительно больного, беспомощного и зависимого человека проникнуто ее непобедимым юмором («Мышкины слезки»).
Иногда рассказы кажутся разговором на лавочке - кто на ком женился, кто от чего умер. Но только кажутся. Все проникнуто творческим осмыслением, все литературно оформлено. Такой фразы, как «Вместо жалкой побирушки передо мной, сурово выпрямившись, стояла беспощадная обличительница...» («Платье с розочками»), вы не услышите на лавочке.
Она не делает больших открытий, не замахивается на высоты и глубины - претенциозность всегда была ей чужда. Она - рассказывает, разговаривает. Но взять хотя бы скромный очерк «Охрана». Ничего нового, на эту тему есть тысяча анекдотов и Жванецкий изощрялся; тем не менее короткая зарисовочка воспринимается свежо и читается с улыбкой.
Или рассказик «Горячее блюдо». Вроде бы такая малость, безделушка, но сколько здесь поместилось характеров! В крохотном забавном эпизоде нашла яркое отражение извечная трагедия безуспешной борьбы человека с судьбой за главную свою ценность: человеческое достоинство.
Кого-то, быть может, шокирует мамина субъективность. Пристрастность доходит иногда до саморазоблачения. (Особенно мне обидно за папу. Это был порядочный, очень неглупый человек, горячо любивший свою семью.) А еще - чересчур крутой скепсис. Например, «Водители» («Блокада») мне страшновато публиковать... По тропе дегероизации она всегда готова была зайти слишком далеко. Но и в этом явлении есть своя ценность. Скучной была бы литература, если бы печатались только добродетельные, правильные, безгрешные, совместимые с «моральным кодексом» произведения.
Не покажутся ли нахальными некоторые мои примечания-сноски? Они идут вперемежку с авторскими примечаниями. Не слишком ли вторгаются они в повествование? Но я считаю, что имею право на кое-какую активность - как свидетель, как составитель и, наконец, как персонаж (вернее, прототип). И, по-моему, это не вредит книге в целом.
Как образцы, без теплых чувств, я включила в книгу придуманные (ПРИ) рассказы «Сестры» и «Пожар». Куда девались колорит, юмор, приметы времени, вообще - стиль?! Это, по-моему, просто схемы рассказов. Пример того, как «автор себя не понимает». Насколько больше (опять же - по моему скромному мнению) достойна печати сугубо «альбомная» «Родословная», адресованная прямым потомкам. В кружеве имен и характеров, родных и экзотических одновременно, в переплетениях судеб, событий, взаимоотношений, в теплоте и живости повествования я вижу залог читательского внимания.
Однако хватит уже мне изображать из себя литературоведа. Взгляните сами: сколько здесь жизни, эпохи (и при такой узнаваемости временного периода - это все-таки жизнь вообще, вечные истины и чувства), наивности и проницательности, доброты (и недоброты: характер у нее не был сахарным), чистоты души и сложности, достоверности и противоречивости, неуловимого сочетания легкости и глубины. Ну а проще - сколько здесь наблюдательности, человечности и... любви и доверия к читателям.
Август 1999 г.
Наивными выглядят сейчас (сентябрь 1999 г.) мамины представления об ужасном и печальном. Но это чтение - соломинка. Даже - противостояние. Оно может помочь сохранить душу и разум в «безумном, безумном, безумном мире». Этакий тихий аскетический пир во время чумы.
Сентябрь 1999 г.
(Из предисловия к книге «Осмелюсь возразить»)
|
![]()